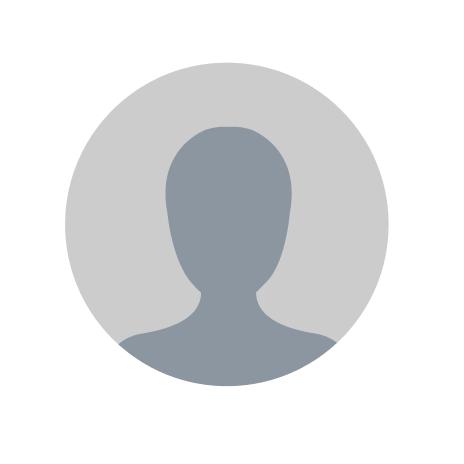У магнитогорца Сергея Литвина не совсем обычная военная биография. Тяжелые первые месяцы войны, а затем длинный вражеский плен. Лишь по счастливой случайности он не попал после немецких лагерей в сталинские. Каким было у него боевое крещение 22 июня 1941 года? Как вели себя красноармейцы в немецком плену? Об этом и многом другом – в интервью Сергея Литвина корреспонденту сайта Mgorsk.ru.
– Сергей Николаевич, по-моему, у вас есть небольшой украинский акцент.
– Да, я украинец. Родился в селе Корюковка, которое насчитывало до войны около 15 тысяч населения. В семье у нас было четыре брата: я самый старший, Николай, Дмитрий и Геннадий. В начале 30-х отец тяжело заболел, и вскоре мы остались одни с матерью. В школе одним из моих любимых предметов был немецкий язык. Его преподавала Филиция Иосифовна – немка по происхождению. Мало кто из моих товарищей предавал этому предмету большое значение, но бабушка мне говорила: «Учись, внучок: в сумке за плечами не носить, а в жизни пригодится». И я был уверен: раз она сказала, значит, точно пригодится, и ни одного занятия по иностранному языку не пропускал.
А в 1939 году, окончив школу, я решил поехать в Николаев – поступать в кораблестроительный институт. Он имел статус оборонного – единственный в то время на весь Союз вуз такого профиля. Конкурс в него был огромным – 19 человек на место, поэтому нам нужно было сдавать четыре предмета: украинский, русский и немецкий языки и математику. Помню, когда я взял билет по немецкому, то понял сразу: ответы на три из пяти вопросов знаю, а на два – нет. Но у меня всегда было развита интуиция и умение оставаться спокойным в любой ситуации. Позже, на фронте, случались такие ситуации: приходилось говорить командирам, куда ставить батарею, чтобы выиграть сражение, и они меня слушались. Вот и здесь я оценил обстановку и поднял руку: «Ich bin bereit» («Я готов»)! Оттрубил первый вопрос, а потом подумал: «Ничего, бабушка, я тебя обойду». И вместо второго вопроса навязал этой пожилой женщине разговор на немецком языке. Она удивилась: «У вас такое хорошее произношение». А после пятого вопроса, когда я положил билет на стол, она обратилась к аудитории: «Вот, товарищи, как надо сдавать иностранный язык!» Но ни она, ни я не знали тогда, что самый настоящий экзамен по немецкому языку я буду сдавать уже через два года.
– Как долго вы успели проучиться в институте?
– Всего две недели – до своего дня рождения. Тогда ведь отсрочек не было, и призвать в армию могли с любого курса. Правда, согласно правилам вуза, нам обещали, что служить мы будем полгода, потом нам присвоят звание и демобилизуют. А в это время уже начались какие-то волнения в Польше. Но никто ведь не предполагал, что война будет такой длинной.
В военкомате мне предложили служить на флоте. Но я отказался, сказав, что мой дядя велел идти в артиллерию. Через месяц меня призвали в город Калинин (Тверь), где располагался запасной полк тяжелой артиллерии в пять тысяч человек.
Однажды вечером два солдатика из полка повздорили между собой, и их посадили на гауптвахту, а как раз в ту ночь всю нашу полковую школу поставили в круговой караул, и мне досталось охранять этих двух красноармейцев. И именно тогда началась финская война. Утром полк ушел, а в лагере осталась только наша полковая школа. Нам еще предстояло долго учиться, поэтому в Финляндию я не попал.
– А вашего брата Николая вы встречали на фронте?
– Нет. Я не смог с ним даже попрощаться: когда меня призвали в армию, он был на работе. Потом, когда уже началась Великая Отечественная, он вместе с нашим младшим братом Дмитрием ушел в партизаны – в дивизию Ковпака. Почти год я ничего о нем не знал. А однажды мне вдруг стало не по себе. Два дня я места себе не находил без видимых причин. Только через несколько лет я узнал, что именно в это время мой брат Николай, который был моложе меня на два года, погиб в Финляндии, а Дмитрий потерял ноги, воюя с врагом в тылу.
– Вас ведь обещали домой отпустить уже через полгода.
– Да, обещали. И если бы в это время немцы не оккупировали Францию, отпустили бы. А тут события так сложились, что демобилизацией уже и не пахло.
Летом 1940 года стояли мы в местечке Идрица недалеко от Прибалтики. Я тогда уже был помощником командира взвода. Ночью нашу часть подняли по тревоге, и мы пошли освобождать Ригу. В Латвии тогда было много русских. Они приветствовали нас, но полиция не давала им делать этого. Нам приказали ни во что не вмешиваться. Жили латыши достаточно богато, в городах чисто – окурка на улицах не увидишь!
Мы дошли до Рейзекне и остановились. Потом мы, артиллеристы, в основном, отдыхали, а вот пехоте пришлось туго: их отправили раскулачивать зажиточных крестьян.
– Как вы попали на фронт?
– Перед отъездом в Ригу мы с товарищем учились стрелять, благо, что патронов было много, и так наловчились, что с 25 метров я перебивал спичку пополам. Однажды нас отправили дежурить по городу. А в пригороде, где нас расселили, через аэродром протоптали тропку, по которой часто ходили гражданские. И, как назло, в тот день часовой, не дождавшись ответа на вопрос «Кто идет?», застрелил глухонемого. Нас вызывают, а мой товарищ никакой, так хорошо выпил. Меня спрашивают: «Где дежурный по городу младший лейтенант Лазарев?!» А я его закрыл в каптерке, чтобы не вышел, и отвечаю: «Его здесь нет: на аэродроме убийство, он поехал туда!» Так я спас друга от трибунала.
Вскоре к нам на проверку приехала медсестра, и я возьми да и возмутись этим фактом. И меня – на трое суток за хулиганство. А после наказания вместе с другими восемнадцатью младшими командирами отправили служить в Литву – на границу с Восточной Пруссией.
Нас, 19 младших командиров, поместили ночевать в брезентовую палатку. Но только я и молдаванин Степан Кресюн оказались счастливчиками. Утром нас вызвали в штаб дивизии и предложили должности зам. политруков пехотной роты. А я-то артиллерист! Прекрасно навожу на цель и стреляю из любого орудия! Почему я согласился на то предложение, и сам не знаю. А на рассвете началась война, и одна из тяжелых бомб попала между бараками, в которых мы спали. Мы со Степаном выбежали на плац, вскрыли оружейный склад, взяли пулемет с дисками, поднялись на горку и начали стрелять по немецкому самолету. Под пулями мы нашли-таки возможность сбегать в палатку, где оставались наши товарищи. Оказалось, немцы постреляли их спящими. И только мы со Степаном остались живыми. Так для меня и началась самая настоящая война.
– Что еще произошло в первый день войны?
– Мы начали отступать вместе с противотанковой батареей. Пехота идет, и мы рядом с ними. Глядим, садится огромный немецкий десантный самолет. Я командую: «Первое орудие отцепляй, наводи!» А наводчик спрашивает: «Как же я с этим самолетом слажу?» «Да как, – говорю, – стреляй по нему, как по воробью: когда у воробья кошка хвост вырвет, он взлететь не может». А в полковой школе я научился стрелять из любого оружия, знал, что такое оптические прицелы и как с ними работать, так что самолет вскоре загорелся. Тут и пехота подоспела: окружили весь десант – никто не ушел. Этот эпизод я описал в рассказе «Из пушки по воробьям».
– Как долго вы отступали?
– Долго. Один из тех дней описан в моем рассказе «Эх, старшина!». В Литве есть город Давгавпилс, который стоит в низине, на берегу реки Даугава. А за рекой начинается возвышенность. По правилам оборону необходимо занимать в окопах под горой, чтобы у солдат не было возможности отступить. А я решил: зачем «до смерти» биться, если надо побеждать? Мы поднялись на горку и там поставили батарею. А тут немцы взорвали мост. И те, кто не успел переправиться через реку, остались в низине. Воспользовавшись этим, вражеские самолеты начали их бомбить, а на тех, кто выжил, направили огневой вал. Если бы командиры поспешили переправить людей через реку вместо того, чтобы перед ней ставить оборону, большинство из погибших остались бы живыми.
Наблюдали мы сверху и такую картину: внизу были окопы, в которых пехотинцы заняли оборону. И среди них один парень, с которым я недавно познакомился. Танки ездили прямо по окопам и утюжили их вместе с людьми. Из всех, кто был внизу, в живых остался только мой знакомый. Он выбрал место поглубже и упал на спину, раскинув руки и прикинувшись мертвым. А мимо идущий немец проткнул ему руку штыком. Но он даже в медсанбат не обратился, чтобы никто не обвинил его в «самостреле».
– Чем еще запомнились вам первые дни войны?
– Тем, что в нашей армии было много переодетых немцев. Однажды мы стояли, заняв оборону. Едет машина в сторону фронта. А я накануне нашел документы на майора Козлова. Останавливаю машину и обращаюсь к одному из офицеров: «Разрешите обратиться. Нашел документы. Возьмите, чтобы никому чужому не достались». А он мне вместо «благодарю за службу» отвечает: «Мы будем вас благодарить». И тут до меня дошло, что это переодетые немцы. Похожая история произошла на родине Пушкина – в селе Михайловском, когда мы отступали в сторону Ленинграда. Шли по большаку. Видим, на дороге стоит офицер и без слов показывает: поворачивать направо. И вся наша батарея покатила в село Михайловское. Утром я встал и пошел собирать лесную клубнику. А солнышко, хорошо так. И вдруг вижу: немецкая пехота идет в атаку. Тут я понял, что тот молчаливый офицер тоже был переодетым фрицем. Я бегом на батарею, а комсостава нет. Пришлось мне взять командование в свои руки. Стрелял по немцам из 122-миллиметровых гаубиц. Они отступили, а мы, кто уцелел, привезли орудия к реке Великой, утопили их и перебрались на другой берег.
Здесь выяснилось, что мы уже в «мешке»: немцы ушли далеко на восток. Нам порекомендовали группироваться по двое и тайно двигаться к своим. Шли ночью, а днем прятались. В одной из деревень забрались на сеновал у заброшенного домика. Утром решили поискать покушать, а тут два немецких мародера. Посадили они нас на тележку и повезли. Мы надеялись сбежать, как только подъедем ближе к фронту, но нас перегрузили на машину и отправили в лагерь «Себеж» для военнопленных.
– Вы пробовали бежать?
– Много раз. Впервые – как только нас привезли на место. Лагеря в начале войны были временными, и мы с товарищем – художником Малогловцем, который с меня еще в полковой школе портрет писал, решили бежать, как только нас выведут на кормежку. Мы так рассуждали: «Нас, военнопленных, здесь тысячи, а их, охранников, всего один отряд». Но уже ближе к ночи нашелся какой-то предатель. Лагерь окружили, положили нас на песок и трое суток мы лежали без воды и хлеба. А кто голову поднимет – очередь. По истечении этого времени нас подняли и начали допрашивать. Моего товарища и еще несколько человек кто-то предал. Их поставили в ряд и стали всех остальных проводить мимо них, чтобы взглядом или мимикой они выдали зачинщиков, но Малогловец даже глазом не моргнул, когда я проходил мимо него.
После этого нас погрузили в эшелон и повезли в Ригу. А я ведь здесь служил, как не воспользоваться этим! Но меня снова поймали и – в подвал на трое суток без хлеба и воды. А когда вышел, погрузили по 100 человек в вагоны и повезли в Германию, в концентрационный лагерь X-B. Мне выдали номер 114013.
– Знание немецкого языка пригодилось в то время?
– Конечно. И даже спасло жизнь. Как-то утром пришел к нам в барак пожилой немец и спрашивает: «Кто из вас может писать по-немецки?». Я сначала промолчал, но мой сосед толкнул меня в бок: «Дурень, тебя ж не в полицейские, а в писари приглашают. Соглашайся!» Так я попал к фельдфебелю Дрефалю – бывшему церковному старосте, в задачу которого входило отправлять заключенных на работу.
Зимой в лагере начался тиф. А так как русские от «Красного креста» отказались и помощи от него никакой не получали, они в основном и умирали. Иду я как-то к бараку, лежит куча мертвецов – все раздетые: так как одежду не выдавали и носить было нечего, ее добывали с тех, кто умер. А сверху лежит одетый. Шепчет: «Браток, не раздевай, дай умереть». Давно я не плакал, а здесь не удержался. И потом мы ездили их хоронить.
В последний раз мы устроили побег перед самой Победой. Привезли нас на полустанок на комиссию, и нескольким пленным дали заключение: «Tauglich» («Годен»). И предложили перейти в немецкую армию – вражеским зенитчикам снаряды подавать. Откажешься – накажут, согласишься – станешь предателем. Что делать? Бежать! А у немцев же все по распорядку, и в семь вечера у них начинался ужин. Мы знали, что нас будут искать в восточном направлении, поэтому мы побежали на запад, в лесу выбрали хорошее место и залегли на трое суток. Но нас все равно поймали и вернули в лагерь. Мы снова бежали. Дошли до севера Германии, до города Ротенбурга, где заморозили нашего генерала Карбышева. И попали в тот же карцер с бетонным полом, где провел он свои последние дни. Но нам повезло: вечером офицеры ушли домой, а ефрейтор, который остался дежурить, оказался коммунистом. Он сводил нас в офицерскую столовую, накормил и дал на ночь теплые одеяла. А утром нас снова отправили в концлагерь.
– Сколько оставалось до конца войны?
– Дней десять. Мы уже и оружие доставали. 8 мая в лагере объявили о победе советских войск.
Во время боевых действий и в плену мне довелось общаться с людьми самых разных национальностей, поэтому сегодня я прекрасно понимаю украинский, русский, польский, сербский, белорусский, болгарский и еще несколько славянских языков. А когда война закончилась, я видел, как забирают домой французов. На поле прилетели самолеты, привезли новое обмундирование, духовой оркестр и почетный караул. И своим военнопленным объяснили: «Война без пленных не бывает. Мы считаем вас героями».
А нас англичане привезли на Эльбу, где стояли наши войска, и уже оттуда мы отправились домой – пешком. До 50 километров за день преодолевали! Так я прошел пол-Германии, весь север Польши и всю Белоруссию до Волковыйска. А там стояла палатка КГБ. И старший лейтенант мне велит: «Выкладывай все, что есть в карманах!» А у меня там только мой номер и красноармейская звездочка. Он хотел их забрать, но я взмолился: «С номером 114013 я прошел пол Европы, а эту звездочку у меня даже в концлагере не отняли! Можно их забрать?» «Можно». «А какие ко мне претензии есть?» «К вам – никаких». Оказывается, КГБ было хорошо известно, кто в лагере сопротивлением занимался, а кто мародерствовал. Петька – санитар, с которым мы до дому добирались, – как зашел в палатку, так и сгинул. Кто его знает, может, он помогал немцам у наших пленных золотые зубы выдергивать?
– А до дома вы добрались?
– Нет. Я попросился в Японию. Но повоевать в ней мне не довелось, как и в Финляндии: мы доехали до Новотроицка, когда объявили, что война окончилась. Нас назвали рабочим батальоном и вместо Украины привезли в Магнитогорск. Здесь тогда только один трамвай ходил. Попал я путевым рабочим на железную дорогу – туда, где ЦЭС. Жил в доменном городке, до мартеновских откосов оттуда час ходьбы, а морозы до 46 градусов доходили. И я решил пойти учиться в индустриальный техникум на электрика. Получил диплом с отличием и ушел на прокат, к Тимофею Суранову.
– Вы ведь на пенсию ушли из горно-металлургического института?
– Да, вскоре после окончания техникума я решил поступить на вечернее отделение института на кафедру электропривода. Там и остался учебным мастером.
– А с семьей-то вам удалось увидеться?
– Да. Через два года после приезда в Магнитогорск. Привез своей матери-украинке и младшим братьям целый чемодан провизии. А в Магнитогорск вернулся со своим младшим братом Геннадием, который впоследствии получил распределение в Волгоград.
– Что бы вы, опираясь на свой опыт, пожелали подрастающему поколению?
– Как сказал один из моих учителей, надо научить молодежь трезво размышлять. Человеку ведь дана интуиция, и он должен чувствовать, где правду говорят, а где нет, и все пропускать через свое разумение. Было у нас такое понятие: «Честь имею!» Мой дедушка, который в царское время был городничим Чернигова, мог так сказать. А сегодня многие ли смогут повторить это вслед за ним?!